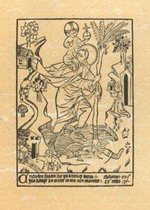| Манера Дюрера |
| Художники - Альбрехт Дюрер |
|
В работах Дюрера нас поражает чрезвычайное разнообразие тем и манер. Дюрер мог самозабвенно и долго рисовать уголок зеленой лужайки, пристально вглядываясь в каждую травинку, словно в мире нет ничего, кроме подорожника, одуванчика, водосбора. Эти травы обретали для него такую важность, будто они — целый мир, в котором одухотворена любая былинка. И он же мог схватить уголь и несколькими яростными линиями нарисовать костлявую фигуру Смерти. Трудно представить себе, что одна и та же рука водила тонкой кистью, рисовавшей зеленую лужайку, и углем, нарисовавшим Смерть верхом на коне. Дюрер мог написать свой автопортрет — торжественно парадный, возвышенно прекрасный. И он же мог нарисовать себя обнаженным, подчеркивая усталость и слабость бренного тела. Кажется, что между работами, которые дышат спокойствием, и теми, которые пронизаны острой тревогой, между теми, которые поэтизируют изображаемое — в том числе и себя самого, — и теми, которые безжалостно передают его прозу, раскачивается некий маятник и размахи его стремительны и огромны. Многое в этих крайностях объясняется характером Дюрера, а многое эпохой, жизнью родной страны и родного города. Он был чутким и восприимчивым сыном времени. Он отзывался на все подземные толчки истории, на все духовные колебания в общественной атмосфере. Смолоду он много раз бывал свидетелем резких и стремительных перемен настроения окружающих. Безудержное веселье праздников, когда весь город ел до отвала, пил, сколько может выпить, пел до хрипоты, плясал до упаду, когда с огромных столов под открытым небом не сходило угощение, сменялось мрачным покаянием. Люди, только что самозабвенно веселившиеся, истово каялись в грехах, ползли на коленях к церкви или часовне, бичевали себя до крови, надевали себе на шею тяжелые цепи с подвешенными к ним деревянными или железными крестами, давали обеты и зароки, один мучительнее другого. Люди, только что рядившиеся в нарядные одежды, вдруг сменяли их на рубища и власяницы. Жизнерадостный хохот уступал место горьким слезам. Тревожный слух или непонятное явление природы, вроде солнечного и лунного затмения, о комете уже и говорить не приходится, повергал толпы в ужас. Спокойными бюргерами, рассудительными ремесленниками мгновенно овладевал панический страх, они дрожали в предчувствии грядущих катастроф. Яркий свет и черный мрак сменяли в эту эпоху друг друга мгновенно. Одна и та же площадь была местом праздников и казней. Из пиршественного зала, освещенного факелами и свечами, человек выходил в непроглядную и опасную тьму улиц. Прекрасные дома патрициев, построенные на итальянский лад, осенью утопали в непролазной грязи. Благоухание цветущих садов смешивалось с вонью улиц, по которым дважды в день, утром и вечером, прогоняли городское стадо, где паслись свиньи, куда выбрасывали мусор. Вот два суждения о Нюрнберге. Итальянский ученый Энео Сильвио Пикколомини, будущий папа римский, восклицал в своих путевых записках: «Нюрнберг! Какое зрелище! Какой блеск! Какое очарование! Какое благородство! Какое правление! Чего здесь недостает, чтобы быть названным идеалом города?!.. Каждый, кто едет из Нижней Франконии и увидит вдали этот чудесный город, тому он представится в истинно величественном блеске, который при въезде через его ворота подтвердится красотой его улиц и чистотой домов. Церкви св. Зебальда и св. Лоренца величественны и прекрасны, императорская крепость гордо и грозно красуется на высоте, дома бюргеров построены точно для князей». А епископ Иоанн Неймарский писал своему пражскому собрату, что после дождей по улицам Нюрнберга на лошади не проедешь. Лошадь, того и гляди, провалится в колдобину или обдаст всадника с ног до головы вонючей грязью. Кто был прав? Оба. По свидетельствам других современников, по стихам мейстерзингеров, прославляющих родной город, и по текстам комедийных представлений — «фастнахтшпилей» — Нюрнберг встает перед нами и таким и таким. И поражающим взор приезжего прекрасными строениями и утопающим в грязи. В ненастье члены Городского Совета шли на заседание, надев поверх обычных башмаков деревянные, а то и просто на ходулях. Город содержал специальных мастеров — мостильщиков, но они отвечали только за мощение камнем главной площади и нескольких улиц. Власти то и дело издавали распоряжение о том, что улицы надлежит содержать в чистоте, посыпать песком и гравием, помои и нечистоты отнюдь не выплескивать из окон, а выливать лишь в ручьи и реку, протекающую через город. Они то запрещали выпускать свиней на улицы, то разрешали делать это лишь в определенные часы, но никак не могли воспрепятствовать свиньям бродить по проезжей части улиц. На рассвете по городу проходил служитель и подбирал дохлых собак, кошек, кур, выброшенных жителями ночью на улицы. Перед большими праздниками, перед приездом важных гостей город убирали; площадь перед ратушей, вокруг главного городского колодца с фонтаном и улицы перед церквами и монастырями даже подметали. Церкви, о которых восторженно писал Энео Сильвио, были действительно величественны и прекрасны. Их высокие башни — во времена Дюрера они как раз надстраивались — были видны издалека. Но когда путник входил в город, они исчезали из его глаз. Улицы были узки и тесно застроены. Поднимешь голову, и она упирается в стену двух-трехэтажного дома, в крутую крышу, а церкви заслонены. Идешь к ним наугад по путанице кривых переулков, они то исчезают, то появляются в разрыве между зданиями. Свободной земли в городе мало. Дома лепятся друг к другу. Улицу сужают пристройки, выступающие на уровне второго или третьего этажа. Из дома выдается то крытый вход в погреб, то лестница, ведущая на верхний этаж, то пристроенная лавка. Эта теснота, эти нависающие выступы, эта скученность есть на картинах, гравюрах, рисунках Дюрера. Но на них же — сквозь пролом стены, сквозь арку, между стволами деревьев видна открытая даль, широкая долина, воплощенная мечта о ничем не стесненной широте, постоянный контраст зажатости и простора. Город круглый год просыпался с рассветом и укладывался, когда стемнеет. Фонари на ночных улицах Дюрер видел в родном городе считанное число раз за всю свою жизнь. Их вывешивали при пожарах, нападениях врага и прочих бедствиях, чтобы люди, которые бегут на помощь, видели дорогу и не сломали себе голову. Появлялись фонари при посещении города императорами или князьями. В обычное время тот, кто ночью отваживался выйти на улицу, сам нес фонарь, а если это был богатый человек, его сопровождали слуги с факелами. В письмах и дневниках Дюрера поражают мгновенные переходы от возвышенного к сниженному, от прозаических мелочей к поэтическим размышлениям. Крайностями, резкими контрастами была окрашена жизнь его родного города, питавшаяся всеми соками бурного, тревожного времени. Эта напряженная и стремительная смена настроений в общественной жизни сильно повлияла и на характер Дюрера и на все его творчество. Город не только напряженно трудился в своих ремесленных мастерских, печатал книги в своих прекрасных типографиях, занимался исследованиями в кабинетах ученых, он жил с постоянным ощущением опасности. На надвратных башнях стража стояла днем и ночью, глядя, не приближается ли к городу враг. Постоянным врагом были рыцари-разбойники. Кроме того, город часто оказывался втянутым в войны разных немецких князей друг с другом, висела над ним и постоянная угроза нападения турок, которые доходили до венгерских и австрийских земель, и многие другие опасности — привычные и неведомые... Каждый взрослый горожанин всегда имел дома оружие наготове. Простой бюргер в момент опасности вставал под городское знамя пехотинцем, богатый — конником. Каждый горожанин должен был хорошо стрелять из арбалета или из огнестрельного оружия. С детства Дюрер знал, что все самое главное в жизни города — торжественное и мрачное — связано с Рыночной площадью. Здесь объявлялись указы городских властей, оглашались и приводились в исполнение приговоры. Приговоры читал вслух с балкона ратуши городской писец. Перед ратушей стоял позорный столб. К нему привязывали ростовщиков, превысивших и без того высокий процент, допускавшийся по закону, изобличенных клеветников, обманщиков. Женщин, уличенных в супружеской измене, ставили к столбу, прибивая к нему за ухо огромным гвоздем. Рядом с позорным столбом стоял еще один инструмент правосудия — «качели» — опора с качающейся балкой, на конце которой была укреплена железная клетка. В нее помещали осужденных, палач раскачивал балку, и она то обмакивала несчастного в уличную грязь, то вытаскивала из нее, а под конец переворачивалась, выбрасывая наказанного в ров, заполненный водой. Так карали виновных в нарушении правил торговли, например тех, кто подмешивал к хорошим продуктам плохие. Осужденные содержались в подвале ратуши. Подземная тюрьма называлась «ямой». В бумагах нюрнбергского магистрата за тот самый 1515 год, к которому мы подошли в нашем повествовании, сохранилась запись о судебном процессе Иорга Фирлинга. Архивный документ рассказывает, что этот нюрнбержец грубо оскорбил на улице мастера Альбрехта Дюрера и даже нанес ему оскорбление действием. Городские власти вмешались немедленно. Пострадавшего и обидчика тут же допросили, после чего Фирлинга заключили в «яму», откуда его выводили несколько раз связанным на допрос. После одного из допросов было записано: «Если он не скажет правду, причинить ему боль», то есть продолжить следствие с применением пытки. К дознанию были привлечены свидетели со стороны Фирлинга и Дюрера. Обидчика, который признал свою вину, приговорили к месяцу заключения в «яме», но освободили по просьбе Дюрера. Что было причиной столкновения, неизвестно, но на страницах старинного документа оживает время, а главное, характер Дюрера. Потрясенный оскорблением, он хотел, чтобы обидчик был наказан. Но при мысли, что тот месяц проведет в «яме», пожалел его и сам попросил об отмене приговора. Начал тяжбу, пылая гневом, остыв и успокоившись, закончил ее примирительно. В этом весь Дюрер! Жестокость претила ему. Пышными и сложными были наряды нюрнбержцев. В моде была плотная камчатная ткань, продернутая серебряной нитью, шелк, атлас, тяжелый бархат, сукно, особенно фламандское, кружева, шерстяные ткани тончайшей выделки. Звонкие серебряные колокольчики, пришитые к плащам, пуговицы, позолоченные или резные. Мужчины затягивались, подбивали грудь ватой, нашивали на костюмы буквы, изображения цветов, молний, звезд. Мода в Нюрнберг приходила из Франции, Бургундии, Италии и часто менялась. На памяти Дюрера увлечение резкими яркими цветами в одежде однажды уступило черному цвету. Это случилось тогда, когда император и его свита появились в городе с головы до ног в черном. Но эта мода продержалась недолго. Скоро опять возобладали яркие цвета. Мужчины носили куртки с такими разрезами на рукавах, чтобы сквозь них выглядывала тонкая белоснежная сорочка, и куртки с большим вырезом на груди, открывающим рубашку, отделанную вышивкой. Длинный камзол уступал место короткой обтягивающей куртке, которая едва доходила до бедер. Рукава носили то очень узкие, то очень широкие, с буфами и перетяжками, то короткие, то длинные. А штаны, некогда широкие и короткие, стали длинными и столь обтягивающими, что их с негодованием клеймили в проповедях как соблазн и бесстыдство. Пояса носили сдвинутыми почти на бедра. Богатые люди украшали их драгоценными камнями и позолотой. Молодые щеголи прикрепляли к поясам кинжалы, ножи, которыми они разрезали мясо, вышитые кошельки, мешочки с благовониями. На плечах у юных франтов висел коротенький плащ. Люди солидного возраста носили плащи длинные, искусно приподнимая их полы, чтобы видна была нарядная обувь. Мода на обувь менялась особенно быстро. Одно время были в ходу туфли с длинными острыми носами, их называли «чертовыми носами». Такие туфли мы видим на многих гравюрах Дюрера. Потом мода переменилась. В ход пошли туфли с тупыми и короткими носами. Горожане прозвали их «коровьими мордами». Женские платья плотно облегали тело. В моду входили глубокие вырезы на груди и спине. Поверх платья дамы носили безрукавки, отороченные пышным мехом, а когда выходили из дому на улицу, надевали широкие длинные плащи, застегивая их пряжками ювелирной работы и собирая крупными складками. Множество решений городских властей и даже имперских сеймов пыталось ограничить пышность нарядов, но оставалось бессильным против модных поветрий. Нюрнбержец мог проследить все капризы скоротечной моды в нарядной толпе, гулявшей вокруг прекрасного фонтана. Однако здесь можно было увидеть не только щеголей и щеголих. Вокруг фонтана городской палач водил напоказ и на посрамление неисправимых пьяниц, нечистых на руку картежников и злостных сплетниц. На улицах было так много нищих и увечных, что городским властям то и дело приходилось принимать решения, чтобы ограничить их число. Объявлялось, что просить милостыню в городе могут только свои, но никоим образом не пришлые нищие. Указывалось, что нищие могут водить с собой детей не старше восьми лет, а тех, кто старше, должны посылать на поденную работу. Нищим предписывалось носить особые значки. Их обветренные, обтянутые кожей лица, их жесты подлинного и заученного отчаяния, их рубища врезались в память художника. Несколько раз Дюрер становился свидетелем грозного обряда — изгнания прокаженных. Каждый, кто подозревал кого-нибудь в проказе, обязан был донести о том властям. Тот, на кого донесли, представал перед сведущими людьми: врачами, банщиками, цирюльниками. Если осмотр подтверждал подозрение, священник служил особую службу. Прокаженный, от которого все шарахались, последний раз шел в церковь, вставал там под черный навес, священник заживо читал ему отходную, исповедовал его и причащал, передавал ему, сопровождая это молитвами, черное одеяние прокаженного, рукавицы, которые тот должен был тут же натянуть, посох, кружку, суму для хлеба. Под похоронное пение священник уводил несчастного в убежище для прокаженных. Тот, кто однажды видел эту процедуру, запоминал ее на всю жизнь. Она являлась в ночных кошмарах. Если у человека появлялась болячка, он пугался до полусмерти, даже прятался от соседей и близких, опасаясь возбудить страшное подозрение. В том, как Дюрер изобразил Иова на гноище, отразился ужас перед проказой. Из-за скученности и тесноты жители города, особенно дети, хворали опасными затяжными болезнями. Нюрнберг был одним из немногих городов Германии, имевших своих врачей. Но они лечили не всех. Вспоминая о том, как болели и умирали его родители, Дюрер ни одним словом не помянул, что приглашал к ним врачей. Видно, в его семье обходились домашними средствами, а ведь это была семья не бедная. В жизни города резко ощущалось неравенство между его жителями, даже теми, кто жил на одной улице. Всего сорок две семьи имели право посылать представителей в Малый Совет, вершивший всеми делами: тридцать четыре патрицианские и восемь семей самых богатых ремесленников. К представителям некоторых профессий нюрнбержцы относились презрительно. Так, например, смотрели на ткачей, которые ткали из льна, что, впрочем, было распространено во всей Германии. Сын льноткача ни за что не мог стать златокузнецом, даже если бы овладел этим ремеслом. Ему были заказаны многие другие уважаемые профессии. Общественное презрение распространялось странным образом на мельников и более понятным на некоторых городских служащих: судебных исполнителей, стражников, мытарей, взимавших пошлину на въезд в город. Еще более презрительно относились к подметальщикам, живодерам, трубочистам, банщикам. Их всячески сторонились. В душе презирали городского палача и его помощников, но говорили с ними, если случалось встретить на улице, не без заискивания, по праздникам дарили им подарки. Как знать, не придется ли познакомиться ближе, а рука палача может быть и тяжелой и легкой и даже при казни способна сократить или продлить мучения. Город любил и умел праздновать праздники. В канун рождества дома украшали гирляндами из веток, перевязанных лентами. В церкви устанавливали резные ясли с фигуркой младенца Христа. По городу медленно и степенно проходили процессии, где дети были наряжены ангелами, пастухами, волхвами. Было достаточно одной приметы, например звезды на палке, чтобы зрители узнали, кого представляет ряженый. Язык подобных символов, в алтарных картинах более сложный и тонкий, в карнавальных костюмах и масках был грубее и проще, но в основе своей он был един. Художник воспринимал этот язык с детства. Многие праздничные обычаи уходили корнями в языческую древность, особенно обычаи масленичного карнавала. Веселье было столь буйным, что власти заранее принимали меры предосторожности, назначая стражей порядка. Задолго до карнавала готовились маски и шились костюмы. Рядились и молодые и старые. Духовные лица, несмотря на запреты, наряжались мирянами. Миряне появлялись на улицах в одеяниях священников и монахов, в картонных епископских митрах, в жестяных папских тиарах. В таком виде они лихо отплясывали и распевали разгульные песни. Один день казалось, что все различия между сословиями относительны, а все запреты отменены. Знатные и богатые появлялись на карнавале в фартуках ремесленников, а то и в рубищах нищих. Смельчаки нацепляли бесовские рога, рисовали на башмаках копыта, прилаживали хвост и появлялись на людях, молвить страшно, в обличье чертей. Находились грешники, разгуливавшие в разгар карнавала почти нагишом, и такие, кто всю карнавальную ночь ползал на четвереньках, уподобляясь неразумному скоту. По улицам разъезжал построенный столярами корабль на колесах. На его палубе толпились, пели, плясали ряженые. Кабаки торговали до самого рассвета. В дни масленицы на главной площади Нюрнберга разыгрывавлись комедии, сочиненные мейстерзингерами. Масленичный город был полон резких контрастов и ярких красок. Он радовал глаза художника. Перед началом великого поста горожане бегали по городу с факелами, искали Масленицу, а когда находили ее — это была огромная кукла из прутьев, тряпья и соломы, — торжественно сжигали. В первое воскресенье поста Нюрнберг, пропахший запахом постных кушаний, устраивал состязания. Бюргеры фехтовали на шпагах, силясь доказать, что делают это не хуже господ дворян. В вербное воскресенье по городу проходили дети с пучками пушистой вербы в руках, перевязанными яркими лентами и украшенными цветами. Они приносили вербу в церковь и составляли здесь торжественную процессию. Мальчики-служки тянули на веревке фигуру осла, вырезанную из дерева, с восседающим на нем Христом. Такие процессии отразились на многих гравюрах и на некоторых картинах Дюрера. Даже неграмотные люди хорошо помнили церковный календарь и связанные с ним праздники, а еще больше приметы и поверья, восходившие к далекой старине. Это была своя система образов — зрительных и словесных. Художник впитал ее с детства и твердо знал, какими символами — предметами, одеяниями, действиями, цветами — выражаются эти представления. Азбуку этой символики он пронес через долгие годы жизни, обогатив и усложнив ее в своем творчестве. Перед пасхой и на пасху горожане ставили спектакли. Представляли эпизоды из «Страстей господних», выбирая главнейшие: предательство Иуды, отступничество Петра, пригвождение к кресту, снятие с креста, оплакивание Иисуса. Алтарные картины и гравюры подсказывали исполнителям, как нарядиться и загримироваться, какие позы принять, а наивные мизансцены этих спектаклей влияли на композицию картин и гравюр. Складывалась общая традиция того, какие именно эпизоды следует изображать. В представления мистерий, которые в главном придерживались евангельских текстов, вводились комические персонажи, не имеющие ничего общего с писанием. Трагические фигуры жен-мироносец, которые принесли миро для помазания Христа во гробе, сталкивались с комической фигурой торговца снадобьями и притираниями, восхвалявшего свой товар с ярмарочными ужимками. Перед зрителями появлялись беспутничающие черти, стонали и оплакивали свою судьбу бедные грешники, ввергнутые в ад, а их прегрешения обличались со сцены в сочных и нескромных стихах. Поначалу эти действа разыгрывались в церкви, но постепенно обрели такой мирской характер, что их вывели на площадь. К прежним эпизодам прибавились новые — бытовые, например веселая сценка, в которой апостол Петр обманывает скупого трактирщика, или другая, в которой сатана расправляется с ленивыми помощниками. Смелое соединение возвышенно поэтического со снижение бытовым рождало острые контрасты, которые не мог не заметить Дюрер. На его гравюре «Взятие под стражу» коренастый старик выхватывает меч и заносит над поверженной уродливой фигурой. Начитанные в Евангелии зрители понимали: Петр отсекает ухо Малху — рабу первосвященника. Поза и мимика Малха вносит в трагическое событие гротескную ноту. Этот эпизод изображен как сцена из мистерии. Лицедеи представляли его так, что, к изумлению зрителей, отрубленное ухо шлепалось на подмостки, а из раны натурально текла красная кровь. Видел Дюрер также, что персонажи евангельских сцен в этих спектаклях выходят на подмостки в таких костюмах, какие носят его современники, и зритель принимает это как должное. Наблюдение, важное для художника. Его привлекало не только то, что происходило на сцене, но и то, что происходило вокруг нее, в многоликой, многоголосой, пестрой толпе зрителей. В мае молодые горожане водили хороводы вокруг дерева, увешанного лентами, в Иоанов день жгли костры и прыгали через пламя, пускали с холмов огненные колеса. Праздник, приходившийся на самый длинный день в году, сохранял много языческих черт и был далек от христианского благочестия. Праздновали в городе и дни освящения церквей. Этот праздник устраивал каждый приход, но горожане других приходов непременно были на нем требовательными гостями, и происходило в такие дни, как писал автор старинной хроники, «великое питие и обжорство». Достопримечательностью Нюрнберга были роскошные сады богачей. Бело-розовое цветение яблонь и вишен в этих садах, рабатки, на которых цвели ирисы и пионы, кусты роз привлекали Дюрера. Разглядывать ветви, листья, почки, бутоны, цветы было для него наслаждением. Город во многом сохранял черты сельской жизни. Он владел полями, сенокосами, пастбищами, лесом. Богатые бюргеры, конечно, сами сельских работ не выполняли, но бедным приходилось косить траву, валить деревья, пилить и колоть дрова. Дважды в день пастух прогонял через город стадо. Горожанки ходили на пастбище доить коров. В каждом доме держали свиней, гусей, кур, уток. Такой двор с сараями, с колодой для кормления свиней мы видели на гравюре Дюрера «Блудный сын». За крепостной стеной лежал луг, на котором горожане играли в мяч, бегали наперегонки, устраивали танцы. Назывался этот луг Галлеровым. Танцевать нюрнбержцы любили и, чтобы устроить танцы, пользовались любым поводом, самым незначительным праздником в календаре. Иногда танцевали в зале ратуши, в притворах церквей. Одно время увлечение танцами дошло до того, что их устраивали даже в монастырях. Находились клирики-монахи, которые пускались в пляс вместе с мирянами, о чем мы узнаем из гневных проповедей, осуждающих этот нечестивый обычай. В разных кругах общества танцевали по-разному. Существовал специальный «Танцевальный устав», перечислявший патрицианские семьи, которые имели исключительное право быть приглашенными на танцы в парадном зале ратуши. Именно по этому уставу узнают историки, кто принадлежал к нюрнбергскому патрициату. Торжественно и степенно танцевали в патрицианских домах. Бюргеры плясали стремительно и бурно, подпрыгивали, стучали тяжелыми башмаками, подбрасывали в воздух визжащих женщин. Из года в год обличали проповедники повальное увлечение этими бесовскими игрищами, но отвратить от них паству не могли. Вглядываться в позы, в жесты, в мимику пляшущих было увлекательно. А еще туда, где танцуют, манила музыка. Дюрер мог слушать ее бесконечно, а в дни праздников в городе играли оркестры, состоявшие из флейт, барабанов, рожков, волынок, труб, скрипок, лютен, арф. Все эти инструменты запечатлены на его гравюрах и картинах. У ремесленников разных специальностей были свои праздники. Один раз в год мастера и подмастерья, выделывавшие ножи, отплясывали всем на удивление знаменитый танец с мечами. Он выглядел воинственно, особенно в солнечный день, когда мечи сверкали как молнии. Раз в году мясники проходили по улицам в масках, тащили на палках коровьи и свиные головы, страшно размахивали тяжелыми топорами для рубки мяса. Был свой праздничный день и у сапожников. Они появлялись на улицах завернутыми в простыни, подобные белым привидениям. Зимой городской луг пустовал, но с весны, едва просыхала земля, влек к себе горожан, особенно молодежь. Тут выступали странствующие фокусники, фигляры, глотатели огня, шуты, уроды, показывавшие за плату свои увечья. Сюда выходили на промысел женщины легкого поведения, носившие на головах предписанные им повязки желтого и красного цвета. В Нюрнберге было несколько публичных домов. Городские власти не препятствовали их существованию. Когда в город приезжал император со свитой или другие важные гости, публичные дома украшали гирляндами, а вечером зажигали над их дверьми фонари и плошки. Несколько раз в год бюргеры устраивали скачки. Призом была штука красного сукна отменного качества. Горожане держали лошадей, с детства учились ездить верхом, кичились друг перед другом статями своих коней, добротой седел, яркостью чепраков. Во всем этом Дюрер, как видно по его работам, знал толк. Многими горожанами владел азарт. Нюрнбержцы запоем играли в карты. Повальным увлечением была игра в кости. Проповеди, направленные против азартных игр, в обычное время оставались гласом вопиющего в пустыне. Но в пору засухи или эпидемии завзятые игроки во всеуслышание каялись, сжигали на глазах сбежавшейся толпы груды карт и досок для игры в кости. Печатники карт и мастера, делавшие кости и доски для них, не огорчались, а радовались, зная, что, едва испуг пройдет, у них снова появятся покупатели. Дюрер не был чужд азартным играм, как мы узнаем из его «Дневника». В Нюрнберге пили много вина и пива. Кабаки и трактиры узнавались по зеленой ветке или венку из зелени над входом. У богатых и знатных были свои питейные заведения, куда простые бюргеры доступа не имели. Одно из них, «Господская горница», представляло собой своего рода клуб именитых нюрнбержцев. Здесь часто бывал Пиркгеймер и все его окружение. В кабаках для простолюдинов особенно полно было по воскресеньям, когда слуги и поденщики пропивали свой заработок. Вечерний звон колокола означал, что гулякам пора расходиться. Сограждане Дюрера так самозабвенно предавались всяческому веселью и разгулу, потому что в их жизни было много мрачного, опасного, пугающего, говорящего о непрочности бытия. В душную ночь, когда в темных зарослях под городскими стенами пели соловьи, вдруг раздавался тревожный набат: где-то на узкой улице загорелся дом. Пахло горьким дымом, летел пепел, громкие крики и плач оглашали улицы. Горожане бегом тащили воду в кожаных ведрах к горящему дому, но чаще всего не успевали его спасти. Или вдруг возникал слух: в городе снова черная оспа. Умирают дети, а те, которым удается пересилить болезнь, остаются с вечными метами на лицах. Порой страх перерастает в ужас: к городу приближается «черная смерть» — чума. Один год отмечен пожарами и болезнями, другой — засухой, неурожаем, дороговизной. В город тянутся голодные и нищие. Городская стража наглухо затворяет перед ними ворота. Молчаливой темной толпой стоят они перед городскими стенами, ждут, что над ними смилуются. Господа советники высылают подкрепление страже и собираются на срочное заседание. Пишут противоречивые указы. Когда опасность представляется особенно сильной, а толпа особенно многочисленной, обещают раздавать нищим хлеб из городских запасов. Современники Дюрера были одержимы множеством суеверий и страхов. Люди то и дело вспоминают грозные предзнаменования — недавно по небу вестником божьего гнева промелькнула хвостатая комета, где-то, рассказывают, выпал кровавый дождь. Молния ударила в дуб и выжгла на нем крест. На рынке появились неведомо откуда люди с кровавыми знаками на ладонях — в тех самых местах, где гвоздями были пробиты руки распятого. И название тем страшным знакам — «стигматы». Стигматы то появляются, то исчезают. А еще рассказывали об облатках для причастия, которые кровоточат, поражая прихожан ужасом. О чем говорят знамения и знаки, знает каждый: мир погряз в грехах, близится страшная кара. Может быть, ее можно отвратить, если начать новый крестовый поход? Люди вдруг собираются в толпы. Вместо знамени они поднимают рубашку девушки, на которой, как утверждают, таинственным образом появились кресты. С этим знаменем идут они в крестовый поход. Против кого? Против турок. Толпа растет как снежный ком. Она идет от деревни к деревне, будоражит всех встречных и увлекает за собой. Вокруг часовен со статуей девы Марии толпа бросается на землю так, чтобы тела лежащих образовали крест. Перед толпой новых крестоносцев закрываются городские ворота, ее пытаются разогнать солдаты князей или епископов. Потом она растекается сама — ее рассеял новый слух, новое знамение. В Нюрнберге тогда уже печатались листовки с известиями о важнейших событиях. Они даже назывались «газетами», хотя каждая из них сообщала обычно только о каком-то одном событии и выходили они нерегулярно. Вести о войнах, о моровых поветриях, о пожарах и засухах разносила молва, стократно умножая тревогу и страх. Бродячие певцы пели о напастях в песнях, на ярмарках продавались лубочные картинки с пугающими изображениями. С самого детства смерть и бедствия в разных обличьях врезались в воображение художника, и неизгладимыми были эти следы. Они не могли заглушить радостного чувства красоты окружающего мира, но не давали забыть о мрачном. Дюрер жил среди яркого света и черных теней. Таким было время — время кровоточащих ран, пылающих костров и пожаров, неистовых страстей, смутных слухов, пугающих пророчеств. Все предвещало перемены и ждало их.
|
| Читайте: |
|---|
Кто мы:
Русские портретисты:
Декан Александр Габриэль Декан, Александр Габриэль (Decamps Alexandre Gabriel , 03.03.1803 г., Париж — 22 |
Гис, Эрнест Адольф Иасент Константен ГИС, ЭРНЕСТ АДОЛЬФ ИАСЕНТ КОНСТАНТЕН (Guys, Ernest Adolphe Hyacinthe Constantin) (1805–1892), французский художник, родился 3 декабря 1805 в местечк... |
Жан Клуэ Эту картину по нескольким причинам можно считать начальным памятником классической культуры во Франции. Франциск I не только получил власть над Итал... |
Луи-Леопольд Буальи БУАЛЬИ, Луи Леопольд (Boilly Louis Leopold, 1761 г., Ла-Бассе — 1845 г., Париж) - художник, автор жанровых сцен и портретов. |
Художники Италии:
 Пьетро Ориоли (1458—1496)Пьетро Ориоли, или Пьетро ди Франческо дельи Ориоли (итал. Pietro di Francesco degli Orioli; ок. 1458—1496, Сиена) — итальянский художник, сиенская шк... |
 Франческо Граначчи (1469-1543)Велико счастье тех художников, которые либо от рождения, либо благодаря завязавшимся с детства узам товарищества сближаются с мужами, отмеченными небом как избранники, превосходящие других в наших искусствах, ибо прекрасная и до... |
 Орацио Джентилески (1563-1639)Итальянский живописец. Работал во Флоренции, Риме, Генуе, Турине; с 1626 — в Лондоне при дворе Карла I.... |